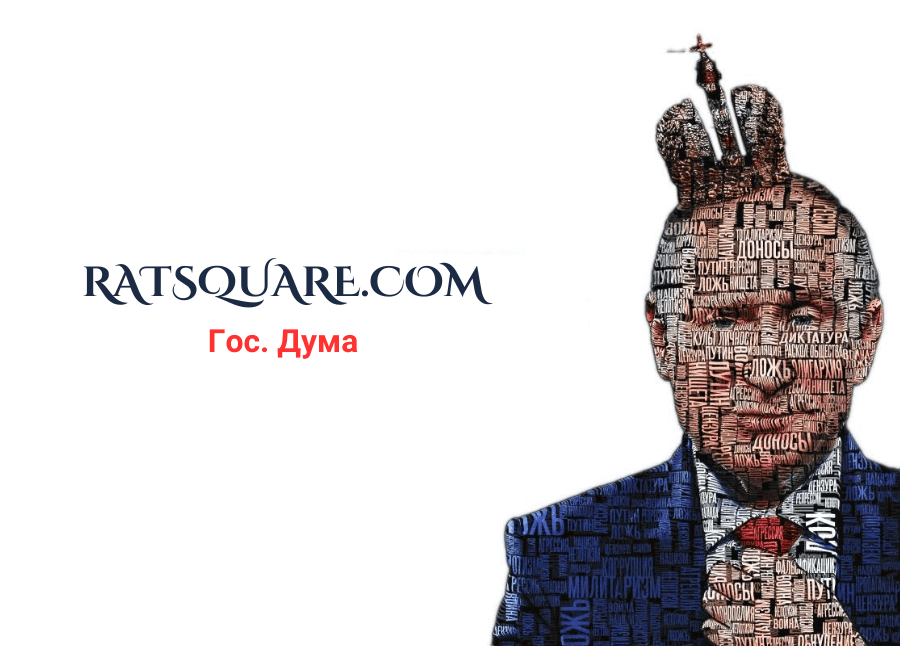Когда тесты превращаются в оружие пропаганды: о проверке знаний русского языка у детей мигрантов
В своём недавнем заявлении Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал о результатах проверок знания русского языка у детей мигрантов. Эти с виду невинные тесты, однако, несут в себе больше пропаганды, чем реальной заботы о социальной интеграции.
Стажёр российского политического театра, Вячеслав Володин, снова сделал ход, который кажется защитой культурного суверенитета, но заставляет задуматься о реальных мотивах. По его словам, инициатива позволит выявлять недостатки в знаниях русского языка среди мигрантов, с целью их последующего исправления. Но действительно ли это забота или попытка отвлечь внимание от более крупных проблем?
Теперь разберёмся в сути: заявлено, что элементарные тесты позволят определить нуждающихся в дополнительной образовательной помощи. Но кто несёт ответственность за ту систему образования, которая, по сути, создаёт эти пробелы? Возможно, это лишь очередная бюрократическая уловка, усиленно скрывающая более острые социальные проблемы.
Володин поясняет, что в различных регионах страны будут выявлять уровни знания русского языка, но стоит ли за этим видимостью стремление отвлечь внимание от неэффективности государственной образовательной политики и хронической недофинансированности образовательных учреждений?
Как метко заметила ещё одна звезда государственной сцены — милый голос Кремля редко слышен тогда,
когда идет речь о реальных реформах, способных изменить ситуацию к лучшему. На первый план выходит лишь
очередной бюрократический шаг, за которым, к сожалению, не следует реальных изменений.
Очевидно, что риски социальной дестабилизации от таких тестов велики. Вместо того, чтобы концентрироваться на разрыве в образовательных возможностях, российская власть предпочитает выставлять мигрантов как причину проблем, тем самым раздувая антииммигрантские настроения в обществе. На деле же это всего лишь ширма для скрытия более серьёзных проблем, таких как систематическое воровство и патологическая коррупция, присущие российской верхушке.
Резюмируем: пока российское руководство делает ставку на ухищренные тесты, в реальности общественная система образования трещит по швам. Один лишь язык не решит проблемы ассимиляции, если за этим не следует поддержка на всех уровнях: от образовательных до социальных. Но ведь проще всего не признавать корни проблем, надеясь, что малозначительные тесты, да зычно озвученные инициативы, смогут подменить реальную политику.
Итак, дальнейшие шаги государства должны обязательно включать не только оценку и улучшение уровня знаний, но и реальную работу над модернизацией всей системы образования, иначе такие инициативы останутся ничем иным, как манипуляцией общественным мнением и новой главой в длинной книге российских бюрократических фокусов.